Два платья и кастрюля
Нина Берберова и Владислав Ходасевич в Париже
Нина Берберова родилась в Петербурге. Говорят, её дед был прототипом Обломова. Гончаров ездил к нему прорабатывать своего героя и однажды забыл чехол для очков, который стал для маленькой Нины любимой игрушкой.
Берберова серьезно относилась к выбору дела жизни. У нее был целый список из профессий, в образах которых она себя представляла. Нина дошла до слова «писатель» и решила, что это ее. Берберова начала писать стихи очень рано и вошла в поэтические круги Петрограда в двадцать лет. После революции писатели, поэты и художники собирались в общежитиях Дома Литераторов и Дома Искусств, где вскоре и оказалась Нина. Там она вступила в Союз поэтов и впервые увидела Владислава Ходасевича.
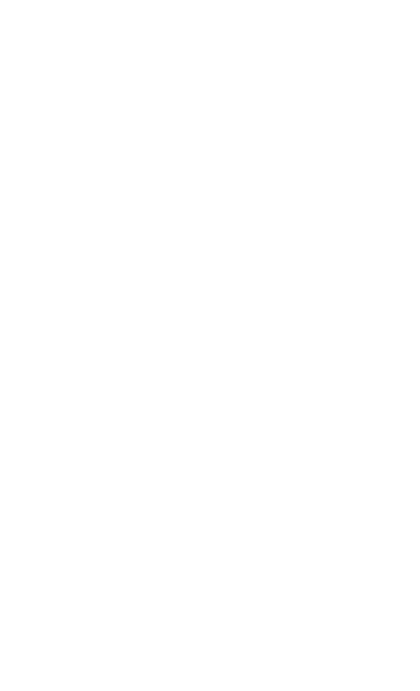
Ходасевич был совершенно другой породы, даже его русский язык был иным. С первой минуты он производил впечатление человека нашего времени, отчасти даже раненного нашим временем. И, может быть, насмерть.
Они начали проводить время вместе: пить кофе после литературных вечеров, гулять по вечернему Петербургу. Их отношения изменились окончательно в 1922 году. Тогда Всеволод Рождественский предложил Берберовой пойти вместе с ним в Дом Литераторов вечером 31 декабря. Она ответила согласием. Ходасевич спросил, где она встречает Новый год, Нина поняла, что ждала этого вопроса. Она ответила, что Рождественский пригласил ее на ужин. Ходасевич не то огорчился, не то обрадовался и сказал, что тоже будет там.
В апреле 1922 года Ходасевич сказал Берберовой, что перед ним теперь есть две цели: быть вместе и уцелеть. Нина позже часто возвращалась к этой формулировке, пыталась понять, что именно Ходасевич имел в виду.
В апреле 1922 года Ходасевич сказал Берберовой, что перед ним теперь есть две цели: быть вместе и уцелеть. Нина позже часто возвращалась к этой формулировке, пыталась понять, что именно Ходасевич имел в виду.
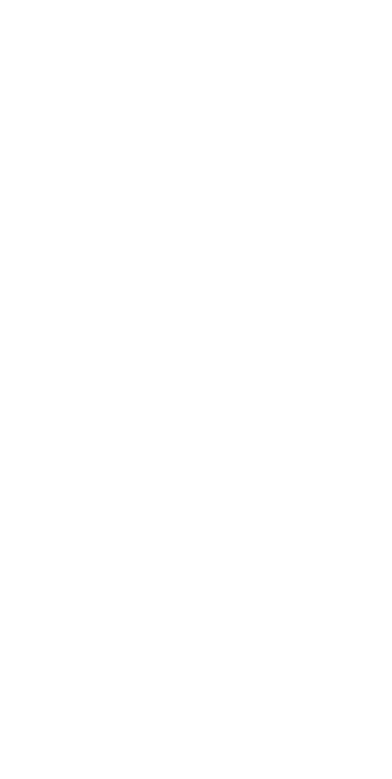
Из дневника Нины Берберовой
Что значило тогда «уцелеть»? Физически? Духовно? Могли ли мы в то время предвидеть гибель Мандельштама, смерть Клюева, самоубийство Есенина и Маяковского, политику партии в литературе с целью уничтожения двух, если не трех поколений? Двадцать лет молчания Ахматовой? Разрушение Пастернака? Конец Горького? Конечно, нет. «Анатолий Васильевич не допустит» – это мнение о Луначарском носилось в воздухе. Ну, а если Анатолия Васильевича самого отравят? Или он умрет естественной смертью? Или его отстранят? Или он решит, что довольно быть коммунистическим эстетом и пора пришла стать молотом, кующим русскую интеллигенцию на наковальне революции?
Нет, такие возможности никому тогда в голову не приходили, но сомнения в том, что можно будет уцелеть, впервые в те месяцы зароились в мыслях Ходасевича. То, что ни за что схватят, и посадят, и выведут в расход, казалось тогда немыслимым, но что задавят, замучают, заткнут рот и либо заставят умереть – как позже случилось с Сологубом и Гершензоном, либо уйти из литературы – как заставили Замятина, Кузмина и, на двадцать пять лет, Шкловского, смутно стало принимать в мыслях все более отчетливые формы. Следовать Брюсову могли только единицы, другие могли временно уцепиться за триумфальную колесницу футуристов. Но остальные?
Нет, такие возможности никому тогда в голову не приходили, но сомнения в том, что можно будет уцелеть, впервые в те месяцы зароились в мыслях Ходасевича. То, что ни за что схватят, и посадят, и выведут в расход, казалось тогда немыслимым, но что задавят, замучают, заткнут рот и либо заставят умереть – как позже случилось с Сологубом и Гершензоном, либо уйти из литературы – как заставили Замятина, Кузмина и, на двадцать пять лет, Шкловского, смутно стало принимать в мыслях все более отчетливые формы. Следовать Брюсову могли только единицы, другие могли временно уцепиться за триумфальную колесницу футуристов. Но остальные?
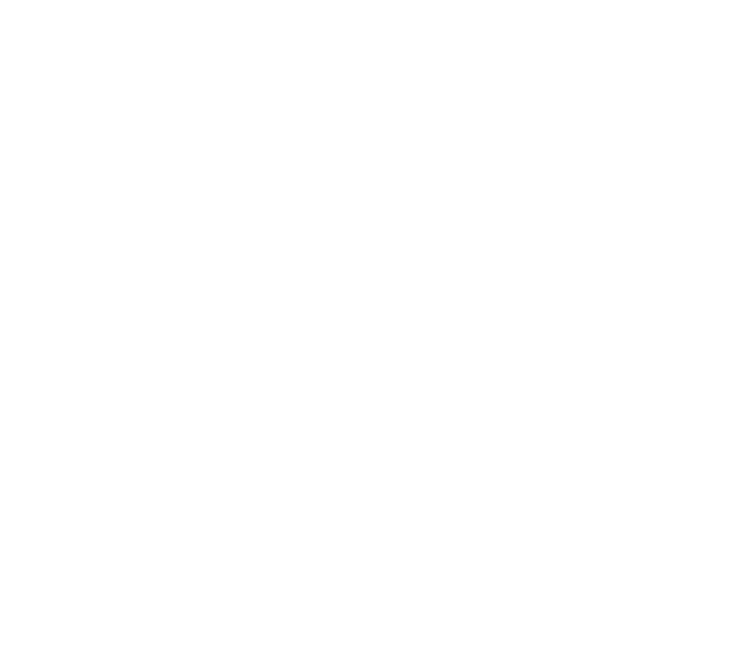
Жена Ходасевича знала про Берберову. Однажды она увидела на столе бутылку вина и корзиночку из-под пирожных. Она спросила Владю, с кем он пил вчера вино? Ходасевич ответил, что с Берберовой. С того момента их жизнь перевернулась. Ходасевич то плакал и кричал, то молился и просил прощения, то проклинал Берберову и смеялся над ней. Но если не видел ее несколько дней, страдал так сильно, что Анна Ивановна сама отправлялась за Берберовой, чтобы та успокоила Ходасевича. Ходасевич принял решение уехать из России. Берберова следовала за ним. Он — под предлогом лечения, она — под предлогом учебы.
С мая 1922 года в Москве началась выдача заграничных паспортов. У Берберовой и Ходасевича появились паспорта для выезда заграницу под номерами 16 и 17. Они приехали в берлинский пансион Крампе. Соседнюю комнату занимал Андрей Белый, через какое-то время приезжает и Пастернак. Позже Ходасевич и Берберова перебрались в Берлин.
После поездки в Прагу, они отправились в Сорренто следом за Горьким. Сделали остановку в Венеции, где Ходасевич был окрылен и подавлен. Эти места напомнили ему о молодости и свободе. В марте 1925 года советское посольство в Риме отказало Ходасевичу в продлении
паспорта, предложив вернуться в Москву. Он отказался, окончательно став эмигрантом. Денег Нине и Владиславу хватило только на билеты до Парижа.
После поездки в Прагу, они отправились в Сорренто следом за Горьким. Сделали остановку в Венеции, где Ходасевич был окрылен и подавлен. Эти места напомнили ему о молодости и свободе. В марте 1925 года советское посольство в Риме отказало Ходасевичу в продлении
паспорта, предложив вернуться в Москву. Он отказался, окончательно став эмигрантом. Денег Нине и Владиславу хватило только на билеты до Парижа.
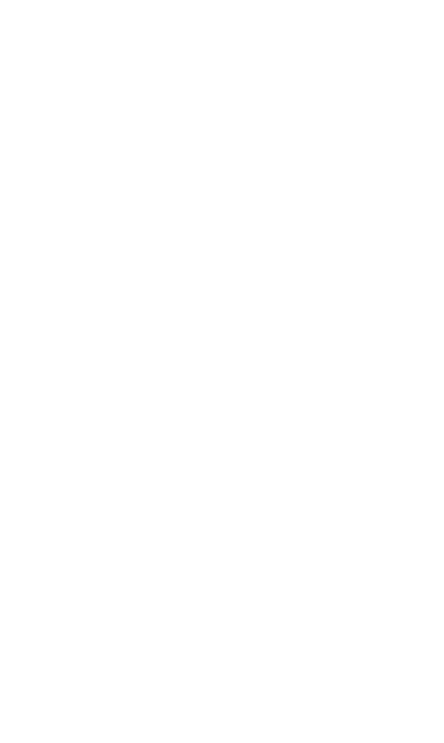
Ехать дальше было некуда. Они остановились в тесном и грязном отеле на улице Амели и получили документы апатридов – людей без родины. Таких «граждан» принимали только на сдельную работу. Поначалу Берберова низала бусы, как и многие другие. Даже Эльза Триоле – сестра Лили Брик – низала бусы. Это было несколько выгодней, чем вышивать крестом. Три раза она снималась статисткой на киносъемках. К рождеству Берберова надписала тысячу открыток с изображением Вифлеемской звезды. Надписала тысячу раз «Oh, mon doux Jesus!». Она получила за это десять франков. На эти деньги можно было купить три обеда, одну пару туфель или четыре книжки.
Ходасевич практически перестал писать стихи. Они нашли квартиру, далеко от тех мест, где жили все, купили два дивана, то есть два матраса на ножках. К ним полагалось купить и надматрасники, но их удалось найти только через три года. Из всего имущества у Нины было два платья с чужого плеча и кастрюля. В маленькой кухне она стирала и развешивала простыни. У Ходасевича обострялись проблемы со здоровьем. Он много кашляет. Доктор говорит, что это, вероятно, печень, но диеты не дает, потому что никакой диеты Ходасевич держать не может: он всю жизнь, кроме голода революционных лет, ест одно и то же – мясо и макароны.
Ходасевич практически перестал писать стихи. Они нашли квартиру, далеко от тех мест, где жили все, купили два дивана, то есть два матраса на ножках. К ним полагалось купить и надматрасники, но их удалось найти только через три года. Из всего имущества у Нины было два платья с чужого плеча и кастрюля. В маленькой кухне она стирала и развешивала простыни. У Ходасевича обострялись проблемы со здоровьем. Он много кашляет. Доктор говорит, что это, вероятно, печень, но диеты не дает, потому что никакой диеты Ходасевич держать не может: он всю жизнь, кроме голода революционных лет, ест одно и то же – мясо и макароны.
В эти годы в Париже живет Хемингуэй. В своих воспоминаниях он пишет о бедности – деньги за ранние рассказы приходили нерегулярно, но на 60 франков в день можно было скромно, но сносно жить вдвоем, любя друг друга. Не любя – стоило гораздо дороже. В самые лучшие годы, когда Ходасевич регулярно работал в «Возрождении», а Берберова в «Последних новостях», у них было около 40 франков в день на двоих, а до этого бывало не больше тридцати.
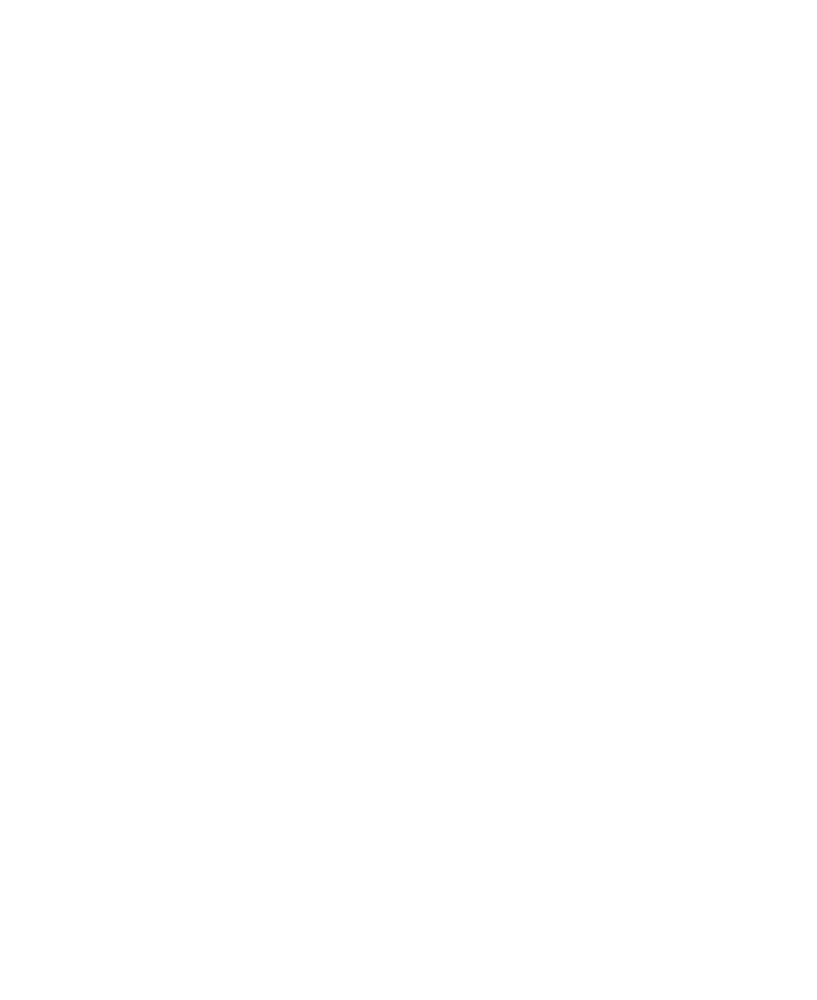
Из дневника Нины Берберовой
Он говорит, что чувствует, когда в Австралии трясется земля. И правда: сегодня в газетах писали о том, что вчера вечером на другом конце земного шара было землетрясение. Вчера он говорил мне об этом. Его страх постепенно переходит в часы ужаса, и я замечаю, что этот ужас по своей силе совершенно непропорционален тому, что его порождает. Все мелочи вдруг начинают приобретать космическое значение. Залихватский мотив в радиоприемнике среди ночи, запущенный кем-то назло соседям, или запах жареной рыбы, несущийся со двора в открытое окно, приводит его в отчаяние, которому нет ни меры, ни конца. Он его тащит за собой сквозь дни и ночи. И оно растет.
Что-то медленно, едва заметно, начало портиться, изнашиваться, сквозить, сначала во мне, потом, в течение почти двух лет, вокруг меня, между ним и мною. То, что было согласием, осторожно начало оборачиваться привычкой к согласию, то, что было утешением, постепенно стало приобретать свойства автоматичности. То, что было облегчением, поворачивалось механически, включалось и выключалось по желанию.
Что-то медленно, едва заметно, начало портиться, изнашиваться, сквозить, сначала во мне, потом, в течение почти двух лет, вокруг меня, между ним и мною. То, что было согласием, осторожно начало оборачиваться привычкой к согласию, то, что было утешением, постепенно стало приобретать свойства автоматичности. То, что было облегчением, поворачивалось механически, включалось и выключалось по желанию.
В 1932 году она оставила в квартире все, как было. Взяла два ящика своих книг и книжную полку, два чемодана с платьями и бельем и ящик с бумагами. Наварила супа на три дня, заштопала все носки и ушла.
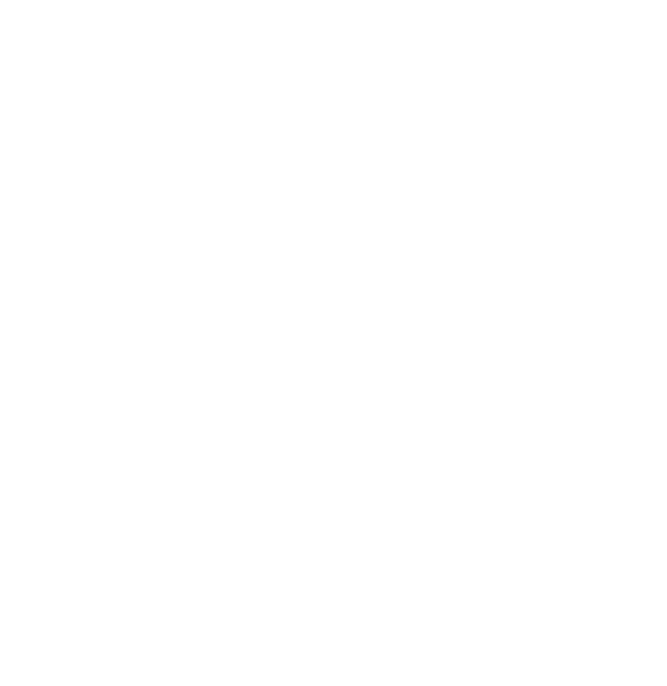
В начале 1939 года Ходасевич серьезно заболел. Желчь все не проходила, силы слабели с ужасающей быстротой. Он еще иногда вставал, даже ходил самостоятельно, но уставал от движений. Позже был поставлен диагноз – рак поджелудочной железы. Ходасевичу была назначена операция, но все понимали, что это не даст результатов.
Перед операцией Нина осталась с ним в палате наедине. Он попрощался, сказал, что любит только её. Пожелал, чтобы она была счастлива и не гоняла на автомобиле.
Перед операцией Нина осталась с ним в палате наедине. Он попрощался, сказал, что любит только её. Пожелал, чтобы она была счастлива и не гоняла на автомобиле.
«Если бы я остался с тобой, – сказал он, – я бы выздоровел».
Авторы: Анна Приданова, Лиза Крашенинникова